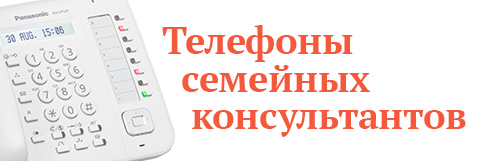У нее на пальцах красные блестящие ногти. Она время от времени проверяет: не облупилась ли на них краска.
Мне кажется, что из-за этого она не стала мыть посуду, хотя несколько раз подходила к раковине и заглядывала туда. Не понимаю, зачем нужно заглядывать, ведь грязную посуду даже снизу — с моего роста видно. Я хотела спросить у бабушки, но когда начала вопрос, так мама почему-то покраснела и сказала мне, чтобы я замолчала.
А до этого — до того, как к нам бабушка приехала, к нам пришла мамина подруга. Мама ей долго и громко рассказывала, что к нам должна приехать «она». Я сразу поняла, что «она» — это бабушка, но ничего маме не сказала, ведь она специально так говорила, чтобы я не поняла. А кого еще мама называет «она»?
Так мамина подруга ей сказала: «Молчи, только молчи и ничего не говори». Надо же, а я думала раньше, что только маленьким детям говорят «молчи». Мама долго слушала, как Динина мама — ее подруга — объясняла ей, что она должна молчать, но совсем не обиделась, хотя было видно, что это ей очень неприятно, только сказала: «Не знаю, не знаю», но по ней было видно, что она все знает, только она так специально сказала, чтобы заставить Динину маму замолчать. И та, наконец, замолчала, чего мама и хотела, потому что Динина мама уже долго говорила, и теперь была мамина очередь. И мама стала рассказывать снова, что это «его» мать приезжает, а «она» должна отдуваться. А Динина мама сказала, что мама должна строить семейные отношения.
Динина мама и моя долго еще говорили, а я достала свои кубики и стала из них строить.
Когда папа пришел домой и спросил, что я строю, я сказала, что я строю семейные отношения. Папа стал хохотать, а я обиделась и сказала, что он зря смеется, потому что эти… как их… семейные очень тяжело построить — так мама сказала. А мама покраснела и стала на меня кричать, что ничего такого она не говорила, а я сказала: «Да, говорила, Дининой маме говорила!». Тут папа сказал маме, чтобы она на меня не кричала. Но она и не могла тихо говорить, ведь он бы ее и не услышал совсем, потому что сам кричал. И все стали кричать, и мне уже больше не хотелось строить семейные отношения.
Я взяла мишку и ушла в комнату и там тихо сидела, а лучше бы я ушла куда-нибудь, потому что я не люблю слушать, когда ссорятся. Я достала из кармана конфету. Ай, я ведь про нее совсем забыла. Ее мне сегодня Тали дала за то, что я разрешила ей поиграть с моей куклой. Я конфету сразу есть не стала, потому что мама говорит, что сладкое портит зубы и можно только после обеда. Наверное, сладкое после обеда зубы не портит. И тут я достала эту конфету. Юдит — наша воспитательница в садике — говорит, что нужно уступать и делить пополам, тогда никто ссориться не будет.
Я пошла на кухню, достала из ящика нож и стала конфету резать пополам. А мама увидела и стала ругаться, что я режу декоративным ножом. А папе сказала: «Видишь? Точно, как твоя мама, ничего не спросит, сама все хватает». Хотя я никогда не видела, чтобы бабушка с ее красными ногтями стала резать пополам конфету. Мама забрала у меня нож, и они с папой еще ругались, а вот если бы съели по половинке, то сразу бы помирились.
Я ушла в комнату и там плакала, а потом, наверное, заснула, потому что когда я открыла глаза, уже было светло, было утро и мама отвела меня в садик.
А после обеда к нам уже приехала бабушка. Я ходила все время вокруг мамы и смотрела на нее. Она стала посылать меня поиграть с игрушками, а я сказала, что боюсь пропустить, когда она начнет «отдуваться». А я ни за что не хочу пропустить, ведь она сказала Дининой маме, что когда бабушка приедет, она должна будет «отдуваться».
Вот я и жду.
Так я сказала.
Тут мама покраснела и стала вбирать воздух в рот — наверное, это и называется «отдуваться».
Тут бабушка стала смеяться, точно, как папа, когда я сказала, что строю семейные отношения из кубиков.
А маме сказала: «Почему у ребенка такие длинные ногти? И такие грязные? Иди ко мне, моя девочка, бабуля обрежет тебе, чтобы ты хотя бы на человека походила!». А у самой ногти еще длиннее, чем мои! Да еще красные к тому же!
Я спросила: «А что, люди с длинными ногтями не похожи на человеков?». Бабушка ничего не ответила, а мама… Тут я посмотрела на маму и увидела, что у нее сделался такой рот, как сегодня в садике у Тали, когда ее ругала воспитательница.
Я подумала, что мама — совсем как маленькая девочка. Ну, тогда я не буду ее слушаться, когда она не разрешает мне на улице сандалии снимать.
Потом бабушка сказала: «Ну, на сегодня хватит». А мама отвернулась, чтобы бабушка не видела, как она сильно выдыхает воздух изо рта. Тот самый, который она набрала, когда «отдувалась».
Бабушка сделала таинственные глаза и стала медленно-медленно доставать из сумки большую пачку вафель. Я очень обрадовалась, потому что в пачке много-много вафель и мне больше не придется делить их ножом, а я смогу дать маме и папе по целой. И себе, конечно.
«А что бабушке?» — спросила бабушка.
«Ты тоже хочешь вафлю? Я думала, что только дети едят вафли. А папы, когда дети не видят. И мамы, когда не видят папы».
«Нет, — сказала бабушка. — Я хотела, чтобы ты мне сказала… что?»
«Спасибо!» — крикнула я.
А мама забрала у меня всю-всю пачку, и стала осматривать ее со всех сторон и, когда бабушка ушла, положила ее на холодильник. Мне кажется, что потом она ее выбросила в мусор, когда я не видела. Ведь она выбрасывает мои рисунки, которые я приношу из садика или рисую дома.
Она их тоже выбрасывает, когда думает, что я не вижу.
Я долго махала бабушке из окна, пока у меня не заболела рука, и даже живот немного заболел, потому что я навалилась животом на окно.
А мама сидела за столом и говорила по телефону. Я залезла под стол, потому что мне было грустно, что бабушка уехала, и мама не разрешает вафли, и что она так много говорит по телефону.
Я смотрела на мамины тапочки и слушала, что она говорит, и думала, что если бы мама и бабушка были в моем садике, они никогда бы не играли вместе в «дочки-матери».
Из-под стола я увидела, как открывается дверь и в квартиру заходят папины ботинки. Он сам, конечно, тоже зашел, но ботинки — это то, что я видела. Мама еще долго-долго говорила по телефону, хихикала и «болтала», как это папа называет, и я видела, что папины ботинки очень этим недовольны. Они ходили туда-сюда, сходили на кухню, постояли перед холодильником, потом подошли к столу и немного потоптались.
Я думала, что они будут меня искать.
Но они не искали.
Мама, наконец, перестала говорить по телефону. Я вылезла из-под стола и стала смотреть — что будет. Мама повернулась к папе и сказала слабым голосом: «Все, я умираю…».
Мне стало страшно: а вдруг мама умрет до того, как приготовит покушать? Что мы тогда есть будем?
А папа сказал: «Интересно, когда ты только что говорила с подружкой, то совсем не умирала. А со мной — так сразу!»,
Мама сказала: «Ты ничего не понимаешь. У меня был ужасный день!».
Папа прошел на кухню и оттуда крикнул: «Прежде, чем что-либо понимать, я бы хотел для разнообразия поужинать».
Мама стала плакать и говорить, что папа ее совсем не понимает. Не ценит и не любит.
Мне очень жалко маму, потому что ее не любят.
И папу, потому что он такой голодный.
И себя, потому что я тоже голодная, и еще потому, что меня тоже немножко не ценят. А может быть, и не любят?